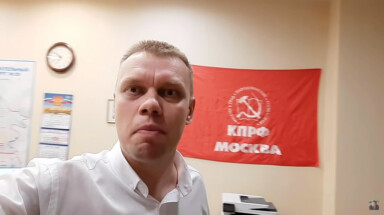Оппозиция пожаловалась в ЕСПЧ на массовое распознавание лиц на митинге в Москве

Митинг в Москве 29 сентября 2019 года. Фото: Zuma / ТАСС
Член политсовета партии «Демократический выбор», бывший замминистра энергетики Владимир Милов и общественный деятель Алёна Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц на митинге в сентябре прошлого года в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в правозащитной группе «Агора».
Это первое подобное обращение как в отношении России, так и в практике суда Страсбурга, указали в организации. Речь идёт о согласованной акции в поддержку политзаключенных и фигурантов «московского дела» на проспекте Сахарова 29 сентября, которая прошла после выборов в Мосгордуму.
Активисты во время акции заметили, что на рамках металлоискателей были закреплены камеры видеонаблюдения. В жалобе они указали, что власти Москвы впервые применили массовое, а не точечное, как раньше, распознавание лиц. Это позднее подтвердили в мэрии и полиции при рассмотрении жалоб в российских судах, которые сочли использование технологии обоснованным и не нарушающим права граждан. Мосгорсуд эти решения утвердил.
По мнению Милова и Поповой, система сплошного отслеживания участников акций нарушает право граждан на свободу собраний (ст. 11 Европейской конвенции по правам человека и ст. 31 Конституции Росиии), охрану частной жизни (ст. 8) и норму о недопустимости дискриминации (ст. 14).
Кроме того, они обращают внимание ЕСПЧ на несоразмерность нарушений свобод по отношению к целям: мэрия согласовала митинг и не получала «информации, позволяющей думать, что акция примет насильственный характер». «Ни власти Москвы, ни МВД не указали причин, почему [для применения технологии] была выбрана именно эта [законная] акция. Никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку представлено не было», — отмечают оппозиционеры.
Россияне стали в два раза чаще жаловаться в ЕСПЧ на нарушение прав. Путин критиковал его решения
Прошлым летом в Москве состоялось несколько акций, вызванных недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму из-за якобы большого процента брака в собранных подписях от сторонников. Митинги 27 июля у мэрии и 3 августа на Трубной площади в итоге не были согласованы и сопровождались задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности на акциях были задержаны более 2300 человек. МВД сообщало о задержании 1600 человек.
«Все они маргинализированы»: Кремль — о серьезных политиках в оппозиции
После митингов Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК) и три уголовных дела о применении насилия против полицейских (ст. 318 УК). Позднее они были объединены в одно производство, которое получило название «дело 27 июля» или «московское дело». Среди фигурантов — 23-летний студент ВШЭ Егор Жуков (за «публичные призывы к экстремизму» его приговорили к трём годам лишения свободы условно), активист Константин Котов (второй в стране осужденный по т. н. «дадинской статье»), программист Сергей Суворовцев (получил 2,5 года колонии), ИП Данил Беглец (два года колонии общего режима) и другие.
Пятеро участников летних акций протеста в Москве подали жалобы в ЕСПЧ на избиения силовиками
В начале июня пятеро участников прошлогодних летних акций протеста подали жалобы в ЕСПЧ на избиения силовиками. Так, Александр Глушак пожаловался на то, что боец Росгвардии на митинге 27 июля в Камергерском переулке ударил его электрошокером, Николай Андреичев — на то, что полицейский сломал ему руку, а Александр Свидерский — на избиение в автозаке за то, что при задержании он держал в руках собаку и пытался передать её друзьям.
Впервые технологию распознавания лиц власти Москвы применили в сентябре 2017 года. Летом 2018 года, по словам мэра столицы Сергея Собянина, камеры также зарекомендовали себя на чемпионате мира по футболу. В прошлом году мэрия анонсировала создание одной из крупнейших в мире систем, которая объединит в себе более 200 000 видеокамер.
По закону «О персональных данных» биометрические данные россиян могут собираться и обрабатываться только в случае наличия письменного согласия гражданина. Исключения сделаны только для случаев, описанных в законах «Об обороне», «О безопасности» и «О противодействии терроризму».